Жвалы прикрой: жизнь насекомых среди британской элиты

Новый роман британского мэтра Иэна Макьюэна начинается почти как «Превращение» Франца Кафки, только наоборот: таракан просыпается в человеческом теле «после нелегкого сна». Неизвестно, имел ли в виду переводчик, столкнувшись с выражением uneasy dreams, просто беспокойный сон, или же намекает на особенно изнурительный сюжет сновидения. Так или иначе, дальнейшие события действительно похожи на ночной кошмар, причем не только для героя и его семьи, как у Кафки, но и для всей Британии. В грезы таракана погрузилась критик Лидия Маслова — и представляет книгу недели, специально для «Известий».
Иэн Макьюэн
Таракан
Москва: Эксмо, 2021. — {перевод с английского Д. Шепелева}. — 128 с.
Новая физическая оболочка насекомого принадлежит премьер-министру Великобритании, замышляющему поистине революционный переход к новой экономической политике во главе радикального кабинета, претерпевшего, как вскоре выяснится, аналогичное превращение. Необъяснимым исключением остается только министр иностранных дел. Чтобы избавиться от единственного homo sapiens в правительстве, таракану приходится прибегнуть к паучьим приемам, сочинив фальшивое обвинение в сексуальном домогательстве: «Ничто не приносило такого раскрепощения, как хорошо сплетенная паутина лжи. Вот почему люди становятся писателями».
Первые несколько абзацев «Таракана» посвящены неудобству метаморфозы. Герой после нее первым делом ощущает острое желание заползти под плинтус, а самое неприятное в человеческом состоянии — ощутить во рту язык: «В том месте, где он когда-то щелкал изящными мандибулами, пришел в движение омерзительный мясистый орган». На этом о Кафке, любезно одолжившем идею, можно забыть, поскольку памфлет Макьюэна написан совсем с другими интенциями и целями. Рассказ пражского визионера продиктован любовью и состраданием к человеку, из которого социум (прежде всего, в виде ближайших родственников) делает жалкое насекомое. А макьюэновская энтомологическая фантазия рождена из ненависти к вредным инсектам, которые в человеческом облике рулят жизнью миллионов граждан, исходя из своих допотопных темных инстинктов, противоречащих прогрессу, просвещению и развитию человеческого разума. Ему писатель противопоставляет «феромонное бессознательное», которое становится главным инструментом политической манипуляции.
Как замечал Владимир Набоков в своей лекции о «Превращении», рассматривая разные писательские ипостаси, «если уйдет чародей и останутся только рассказчик и учитель, мы очутимся в неинтересной компании». Правда, Набоков не упомянул еще одно агрегатное состояние литератора, видимо, ввиду глубочайшего к нему презрения, — публицист. Именно в этом качестве преимущественно выступает Макьюэн с «Тараканом», который начинается с посвящения Тимоти Гартон-Эшу — политологу, колумнисту The Guardian, противнику Brexit, остроумно сравнившему утрату Евросоюза для Британии с потерей здоровья: ты начинаешь его ценить, только когда его утратишь. Макьюэн как бы продолжает эту метафору, намекая на потерю изоляционистами не только здоровья (прежде всего психического), но и вообще человеческого облика. Причем явление это не ограничивается пределами Британии, как следует из полного саспенса телефонного разговора британского премьера с американским президентом, настолько неотесанным, что он не в силах произнести правильно и название нового экономического порядка — «разворотизм»:
«— Когда ты вот так говоришь об этом, — сказал, наконец, президент, — я вижу, в этом что- то есть. Определенно. Думаю, вместе мы, Джим, заставим развратизм заработать. Но сейчас мне нужно э-э...— Еще одно слово, мистер президент. Могу я задать вам личный вопрос?
— Конечно. Если только это не касается...
— Нет, нет. Конечно. Это касается того, что было. До того.
— До чего, Джим?
— Шесть?
— Повтори.
— Хорошо. У вас. У вас раньше.
— Раньше что?
— Было гм.
— Боже! Выкладывай, Джим! Было что?
— Шесть ног? — прошептал он.
Линия смолкла».
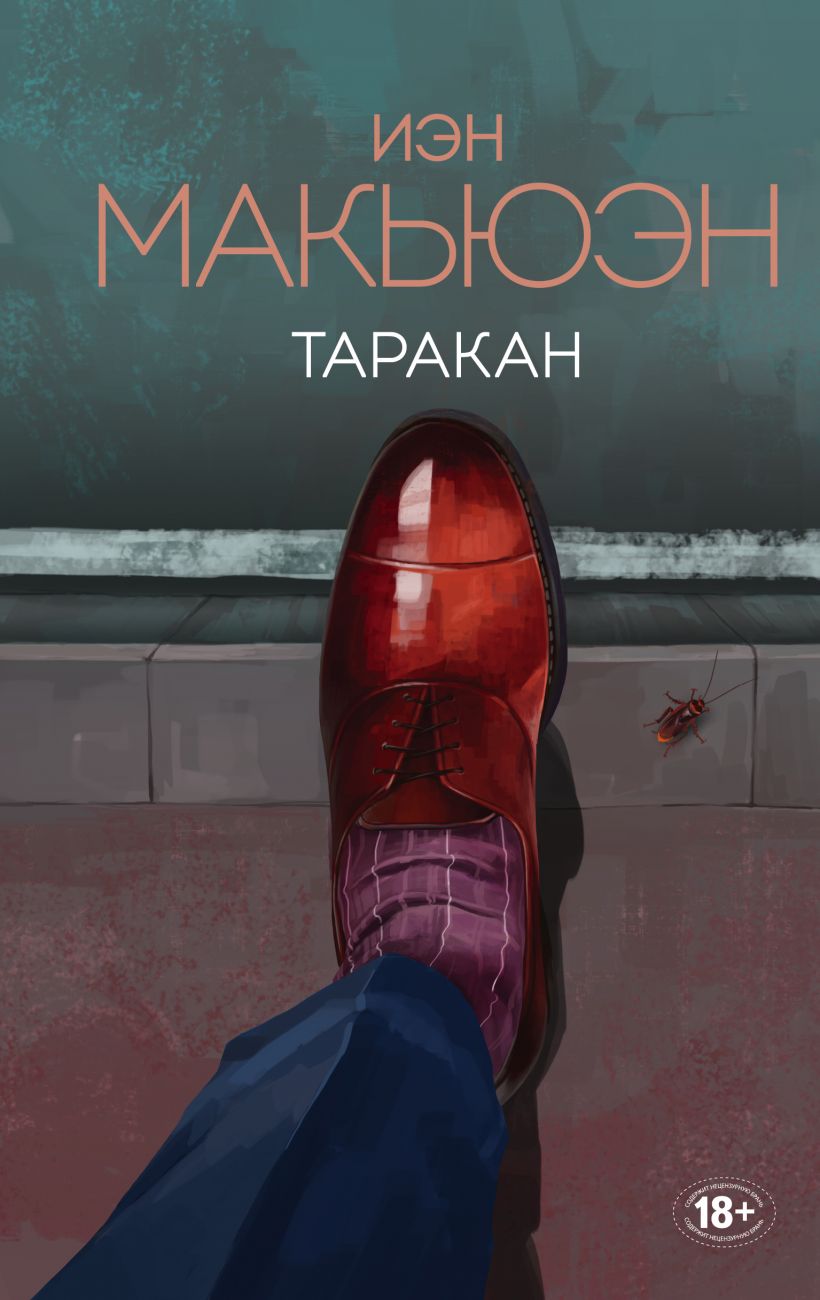
Неспециалисту может показаться в «Таракане» нудноватой экономическая «матчасть», где автор разъясняет суть конфликта между сторонниками традиционного товарно-денежного оборота, «оборотистами», и адептами новой стратегии, стремящимися повернуть вспять денежные потоки (подобно тому, как Макьюэн «развернул» в обратную сторону кафкианский прием). Довольно проблематично представить, как будет работать фантастическая система, при которой за потребление платят потребителю, а за труд платит тот, кто трудится. Но в итоге писатель все-таки находит наглядные примеры, делающие абсурдность «разворотизма» понятной любому обывателю, как в речи таракана, обращенной к парламенту:
«...в День Р наша расширенная полиция сможет притормозить беззаботно разогнавшегося водителя и передать ему в окошко банкноту в пятьдесят фунтов. Перед лицом возможного уголовного обвинения водитель примет решение использовать эти деньги на работу и оплату сверхурочных или найти работу получше. Это только один пример, г-н спикер, того, как разворотизм простимулирует экономику, встряхнет наших прекрасных граждан и упрочит демократию».
Есть в романе и другие забавные картинки, отражающие сложности начального периода «разворотизма», например, «фанаты Джастина Бибера, прибывшие на концерт, ожидали, что им всем заплатят». Однако Макьюэн-сатирик блещет еще ярче, когда немного отходит от абсурдной антиутопии к настоящей реальности. Например, дает полезный урок ведения дискуссий в «Твиттере» («примитивный аналог феромонного бессознательного») с точки зрения законов боевого НЛП, позволяющего уничтожить оппонента, или описывает специфику британского парламентаризма, одной из особенностей которого является «хорошо укоренившийся обычай нагревать друг друга».






